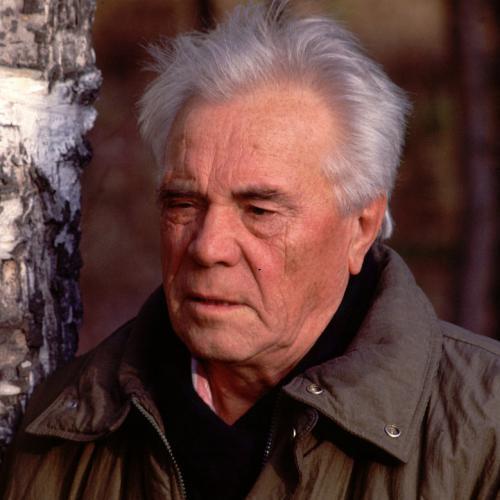Русская литература о Великой Отечественной войне изначально была пронизана героическим пафосом. Астафьев тоже относится к этому времени трепетно. Но он несколько смещает традиционную оптику в подходе к этой теме: для него и Отечественная война – это прежде всего война, то есть некое противоестественное состояние мира, концентрированное воплощение хаоса, наглядное воплощение тех сил и условий, которые противоположны человеческой натуре по определению и способны только разрушать душу.
Уже «Звездопад» (1961), первая повесть Астафьева о войне, отличалась по своему пафосу от типологически близких ей фронтовых лирических повестей Г. Бакланова, Ю. Бондарева, К. Воробьева. Батальных сцен нет. Глубокий тыл – госпиталь где-то на Кубани, потом запасной полк, пересылка. Есть традиционный для фронтовой повести сюжет первой любви и его трагическое решение. Но если у других авторов причиной трагедии становилась гибель одного из молодых героев там, на фронте, то у Астафьева трагедия погибшей любви начисто лишена героического ореола. Просто мама медсестры Лиды, которую полюбил Мишка Ерофеев, интеллигентная, умная женщина, деликатно просит его:
«Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду (…) Не ко времени все это у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. Допустим, вас изувечат еще раз и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что? Какое у вас образование?..»
И Мишка ее понимает. Он уходит в пересылку и оттуда с первым попавшимся «покупателем» отбывает на фронт. Он отверг свою первую, самую дорогую любовь. Сам отказался от, возможно, единственного за всю жизнь счастья. И отказался от любви Лиды именно из любви, из жалости и заботы о ее судьбе.
Соседи по пересылке, видя, как горюет Мишка, сочувственно дают ему окурок: «Убили кого-нибудь? – спросил меня из темноты тот, что давал докурить. – Убили… – Когда только и конец этому будет? – вздохнул все тот же солдат. – Спи давай, парень, если можешь…» По Астафьеву, то, что произошло с Мишкой Ерофеевым, равноценно гибели. Такого разрешения любовной коллизии нет больше ни в одной книге об Отечественной войне.
В начале 70-х годов увидело свет самое совершенное произведение Виктора Астафьева – повесть «Пастух и пастушка». В книжных публикациях автор поставил даты: 1967-1971. За этими датами не только годы напряженной работы, но и годы, потраченные на «проталкивание» повести в свет. Ее несколько лет «выдерживали» в журнале «Наш современник», где сам Астафьев был членом редколлегии. Все объяснялось непривычным для советской литературы изображением Отечественной войны. В «Пастухе и пастушке» война предстает как Апокалипсис – как некое вселенское зло, жертвами которого становятся все, русские и немцы, мужчины и женщины, юнцы и старцы.
Повесть Астафьева перенасыщена страшными натуралистическими сценами и подробностями, воссоздающими ужасный лик войны. Обгорелый водитель и его «отчаянный крик до неизвестно куда девавшегося неба». «Запах парной крови и взрывчатки», который остается от человека, подорвавшегося на мине. Трупы, вмерзшие в снег. Немец с оторванными ногами, протягивающий штампованные швейцарские часики с мольбою: «Хильфе!»… Некоторые натуралистические подробности превращаются у Астафьева в зловещие апокалиптические символы. Вот пример:
«Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимися за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом (…) Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, он сам, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выдранным с корнем дубьем. Руки длинные с когтями. Холодом мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища».
Буквально огненный ангел из Апокалипсиса или какой-то доисторический зверь – а ведь это просто-напросто автоматчик, на котором вспыхнула маскировочная простыня. Это характерный для батальной поэтики «Пастуха и пастушки» прием – перевод непосредственного изображения в мистический план. Страшное месиво, оставшееся на месте боя вызывает здесь такую ассоциацию: «…Все разорвано, раздавлено, побито все, как после светопреставления». Или: «Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы». (В одной из редакций повести был эпизод – наш связной, что никак не может найти нужную ему часть, жалуется: «Он кружит нас… нечистый, что ли?») И довершает этот апокалиптический ряд традиционный в таком контексте зловещий образ воронья: «Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное…»
А что вообще делает война с душой человека? Она ее растлевает – утверждает писатель. Пример тому – образ старшины Мохнакова. Он великолепный вояка – воюет умело, толково, даже в горячке боя не теряет головы, профессионально научился убивать. Но именно он после боя мародерствует, обирая убитых, именно он по-хамски обращается с приютившей их хозяйкой. В нем все человеческое уже кончилось, и он признается Борису: «Я весь истратился на войну, все сердце истратил, не жаль мне никого». Гибель Мохнакова, что положил в заплечный мешок противотанковую мину и бросился с нею под танк, по всем литературным стандартам – подвиг, но Астафьев видит здесь не только акт героического самопожертвование, но и отчаянный акт самоубийства: Мохнаков совершенно обдуманно покончил с собой, потому что не смог жить со своей испепеленной, ожесточившейся, обесчеловеченной душой.
И даже лейтенант Борис Костяев, главный герой повести, тоже на войне душевно истрачивается. Он истрачивается от крови и смертей, от постоянного лицезрения разрушения, от хаоса, который творят люди. В повести есть фраза, фиксирующая психологическое состояние лейтенанта: «Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее». Это очень глубокая формула: апокалиптические обстоятельства страшны даже не физическими мучениями и физической смертью, а смертью души – тем, что из нее выветриваются те понятия, которыми человек отделил себя от скота – сострадание, любовь, доброта, сердечность, чуткость, бережливое отношение к жизни других людей. Не случайно у Астафьева очень странной выглядит смерть Бориса. Его ранило осколком мины в плечо, ранение, в сущности, не очень-то тяжелое, но он слабеет, гаснет и умирает в санитарном поезде. Лейтенант Костяев погиб на войне от усталости – он не смог дальше нести свою душу. Молох войны у Астафьева не щадит никого из костяевского взвода: гибнут кумовья-алтайцы
Карышев и Малышев, тяжело ранен жалкий ябеда Пафнутьев, подрывается на мине Шкалик, совсем еще мальчик…
Такова война и таковы ее последствия.
Но с апокалиптическим ужасом войны в повести Астафьева вступает в противоборство душевное, сердечное начало. Само заглавие произведения («Пастух и пастушка») и его жанровый подзаголовок («современная пастораль») уже ориентируют читателя на амбивалентное отношение к изображаемому.
Астафьев действительно восстанавливает память о пасторали, этом излюбленном жанре сентиментализма, через введение клишированных, легко узнаваемых образов, деталей, сюжетных ходов, стилистических оборотов. Но было бы большим упрощением видеть здесь пародирование. Между идеальным, а точнее, наивно-идиллическим миром пасторали и суровым, кровавым миром войны в повести Астафьева установлены многозначные отношения.
Достаточно вслушаться в мотив «пастуха и пастушки» – центральный мотив повести, чтоб уловить эту многозначность. История Бориса Костяева и Люси, нечаянно нашедших и потерявших друг друга в хаосе войны, рождает ассоциацию с пасторальной историей о пастухе и пастушке. Но сколько оттенков имеет эта ассоциация! Родители Бориса, школьные учителя из маленького сибирского городка, тоже «пастух и пастушка»: их любовь и нежность – это психологическая параллель к отношениям Бориса и Люси. Двое деревенских стариков, пастух и пастушка, убитые одним снарядом, – это возвышенно-эпическая параллель.ним снарядом, – это возвышенно-эпическая параллель. А есть еще пастух и пастушка из балета, который Борис мальчиком видел в театре, и наивность этой театральной, придуманной идиллии отмечена стилистически («Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах»). Наконец, есть жалкая пародия на идиллическую верность в образе «плюшевого» немецкого солдатика, денщика, остающегося слугой даже при застрелившемся своем генерале.
Такая же многозначность отношений между современным, то есть реальным, и пасторальным, то есть идеальным и идиллическим, планами становится конструктивным принципом всех без исключения художественных элементов повести «Пастух и пастушка».
Сниженно бытовое и идиллически высокое есть уже в первом портрете Люси: мазок сажи на носу и глаза, «вызревшие в форме овсяного зерна», в которых «не исчезало выражение вечной печали, какую умели увидеть и остановить на картинах древние художники». В стилистической организации повести очень существенна роль старомодного, связанного с поэтикой пасторали, слова и жеста: «Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах, – не сразу отозвалась Люся»; «Старомодная у меня мать… И слог у нее старомодный», говорит Борис. Или вот еще: «Подхватив Люсю в беремя, как сноп, он неловко стал носить ее по комнате. Люся чувствовала, что ему тяжело, несподручно это занятие, но раз начитался благородных романов – пусть носит женщину на руках…»
Герои стыдятся старомодности, а вместе с тем дорожат ею, не хотят растерять того чистого и доброго, что отложилось, спрессовалось в этих вроде бы устарелых словах, жестах, поступках.
И в самом сюжете автор сталкивает нежную пасторальную тему с жестокой, точнее – с жесточайшей прозой жизни. Общее сюжетное событие в повести строится на параллели двух несовместимых линий – описывается кровавая мясорубки войны и рассказывается сентиментальная история встречи двух людей, словно рожденных друг для друга. Намеренно акцентируя оппозицию нежной пасторали и кровавой прозы войны, Астафьев расставляет по сюжету, как вешки, три очень показательные коллизии. Сначала Борис и Люся, перебивая друг друга, воображают, какой будет их встреча после войны: Борис – «Он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа, три километра, все три тысячи шагов»; Люся – «Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка». Потом, уже расставшись, каждый из них мечтает о новой встрече: Борис – о том, что, как только их полк отведут в тыл на переформировку, он отпросится в отпуск, а Люся, выйдя из дому, видит его сидящим на скамейке под тополями, и – «так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги». Наконец, сам безличный повествователь тоже втягивается в эту игру воображения: он рисует картину погребения умершего Бориса по всем человеческим установлениям – с домовиной, с преданием тела земле, с пирамидкой над холмиком. Но каждая из этих идиллических картин жестко обрывается: «Ничего этого не будет…»; «Ничего этого не было и быть не могло…»; «Но ничего этого также не было и быть не могло…» И напоследок вместо утопической картины скромного, но достойного похоронного обряда идет натуралистическое повествование о том, как товарный вагон с телом Бориса Костяева был оставлен на каком-то безвестном полустанке, как начавший разлагаться труп случайно обнаружили, «завалили на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую яму».
И все же пастораль не исчезла в этом жестоком мире. И спустя тридцать лет после войны немолодая женщина «с уже отцветающими древними глазами» нашла могильный холмик посреди России и сказала тому, кто там лежит, старинные слова: «Совсем скоро мы будем вместе… Там уж никто не в силах разлучить нас».
Астафьев усиливает пасторальную линию с помощью дополнительных, собственно архитектонических ходов. Уже в самих названиях основных частей повести есть определенная логика. Часть первая называется «Бой» – здесь представлена война как источник всех бед. Остальные три части образуют противовес первой. Но в их последовательности «материализуется» печальная цепь неминуемых утрат: часть вторая «Свидание» – часть третья «Прощание» – часть четвертая «Успение» («успение» – по православному канону есть уход человека из бренного мира.)
Кроме того, Астафьев оснащает повесть продуманной системой эпиграфов. Эпиграф ко всей повести (из Теофиля Готье: «Любовь моя, в том мире давнем, / Где бездны, кущи, купола, – / Я птицей был^ цветком и камнем, / И перлом – всем, чем ты была») задает пасторальную тему как эмоциональную доминанту. Эпиграф к первой части («Бой») таков: «Есть упоение в бою. Какие красивые и устарелые слова (Из разговора, услышанного на войне)», – повествователь даже перед авторитетом Пушкина не отступил и отверг его, ставший классическим, афоризм: для человека, видящего войну как апокалипсис, никакого упоения в бою нет и быть не может. Зато все эпиграфы к остальным частям развивают ту же пасторальную тему, что задана в четверостишии из Теофиля Готье. Вторая часть («Свидание»): «И ты пришла, заслышав ожиданье», – это из Смелякова. Часть третья («Прощание») – строки прощальной песни из лирики вагантов: «Горькие слезы застлали мой взор…» и т.д. Часть четвертая («Успение») – из Петрарки «И жизни нет конца / И мукам – краю». Таким образом, эпиграфы в повести «Пастух и пастушка», кроме того, что выполняют традиционную функцию эмоциональных камертонов, еще и дидактически выпячивают авторский замысел.
По Астафьеву выходит, что война принадлежит к тому ряду стихийных бедствий, которые время от времени сотрясают планету, что война – только одна из наиболее крайних форм проявления катастрофичности жизни, само пребывание человека на земле есть всегда существование среди хаоса, что человеку, пока он жив, приходится постоянно оберегать свою душу от растления. (В этом аспекте повесть Астафьева перекликается с романом Пастернака «Доктор Живаго».) И единственное, что может противостоять этому всесильному экзистенциальному Молоху, единственное, что может защищать душу от разрушения – утверждает автор «Пастуха и пастушки» – это внутреннее, душевное действие, производимое маленьким человеческим сердцем. И хотя беспощадный Молох бытия обескровливает и уничтожает в конце концов человека, единственное, что может быть оправданием его существования на земле – это сердечное начало, это любовь как универсальный принцип подлинно человеческого, то есть одухотворенного бытия. «Пастух и пастушка» – это очень горькая повесть, которая печально говорит человеку о трагизме его существования и увещевает, взывает до конца оставаться человеком.
Астафьев неоднократно говорил о том, что хочет написать большой роман об Отечественной войне, где покажет вовсе не ту войну, образ которой сложился в советской баталистике. И вот в 1992 году увидела свет первая книга этого давно обещанного романа. Уже самим названием он полемически соотнесен с предшествующими эпическими полотнами. Раньше были эпические оппозиции: у Симонова – «Живые и мертвые», у Гроссмана – «Жизнь и судьба». У Астафьева – апокалиптическое: «Прокляты и убиты». Здесь Астафьев создает свой миф об Отечественной войне, и не только о войне.
Первая книга имеет свое заглавие – «Чертова яма». Здесь еще нет ни фронта, ни бомбежек – события протекают в глубоком сибирском тылу, в лагере, где формируются воинские части перед отправкой на фронт. По конструктивным параметрам перед нами роман-хроника. Но по характеру изображения и по эстетическому пафосу – это огромных размеров «физиологический лубок». Даже тот, кто знает про гитлеровские лагеря смерти или Колыму, «ужахнется», читая у Астафьева описание той «чертовой ямы», той казарменной преисподней, в которой физически изнуряют и морально опускают, доводят до скотского состояния парнишек призыва двадцать четвертого года рождения.
На чем же держится эта скрипучая и гнилая державная казарма? А на целом частоколе подпорок, среди которых главные – Великая Ложь и Великий Страх.